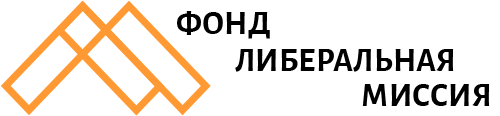Структура завершённого ресентимента (на примере российской истории) Часть I
 После нескольких наших публикаций о феномене российского ресентимента у некоторых из тех, кто с ними ознакомился, возникли вопросы. Как так получается, что на этот культурный феномен впервые обратили внимание европейские мыслители, используя понятие для описания европейских же реалий, а в России он запущен в публичный оборот и даже вошёл в моду совсем недавно, причем не для подтверждения её европейскости, а для обоснования её цивилизационной особости?
После нескольких наших публикаций о феномене российского ресентимента у некоторых из тех, кто с ними ознакомился, возникли вопросы. Как так получается, что на этот культурный феномен впервые обратили внимание европейские мыслители, используя понятие для описания европейских же реалий, а в России он запущен в публичный оборот и даже вошёл в моду совсем недавно, причем не для подтверждения её европейскости, а для обоснования её цивилизационной особости?
Ответ вроде бы очевиден и известен: ментальный гибрид зависти и ненависти слабых и неудачливых к сильным и успешным, что и есть ресентимент, в России воспринимается не только внутренним, как в западных странах, но, прежде всего, внешним феноменом, характеризующим её отношения с Западом в их притяжениях и отталкиваниях. Но очевидно совсем не всё.
Неслучайно слово «ресентимент» оказалось востребованным российскими интеллектуалами именно в последние годы, когда очередное взаимопритяжение России и Запада сменилось очередным взаимоотталкиванием с сопутствующей реанимацией в РФ авторитарной политической традиции.
Насколько продуктивен, однако, концепт ресентимента для понимания происшедшего и происходящего в стране и прогнозирования её будущего? Автор текста, публикацию которого мы начинаем, петербургский историк Даниил Коцюбинский считает концепт этот не просто продуктивным, но наиболее продуктивным в интерпретации не только позднесоветской и постсоветской, но и всей российской истории.
Предваряя публикацию этого текста, хотелось бы обратить внимание на некоторые основные тезисы автора.
По его мнению, российский ресентимент — это особый феномен со сложной структурой, не описанный ни европейскими теоретиками, начиная с С. Кьеркегора, Ф. Ницше и М. Шелера, ни современными российскими учеными и публицистами, — сводка мнений тех и других представлена в первых двух частях текста. Особенность же его в том, что ресентиментная зависть-ненависть, в отличие от стран Запада, в России проявляется в отсутствие гражданских и политических свобод, притом не только у основной массы населения, но и у элиты, всецело зависимой от самодержавного правителя, что не может не сказываться и на «низовом» отношении к ней. В свою очередь, ресентимент самого самодержавного правителя — не внутренний, а внешний, в котором присутствуют не только зависть-ненависть к Европе и США, но и постоянное притязание на равное с западными лидерами влияние на международную политику. И, соответственно, перманентные притязания не просто на равенство, но и на превосходство сначала в военной мощи, потом в других областях, а также на признание этого превосходства. Общество испытывает те же внешние ресентиментные переживания, что и самодержавный правитель. Таким образом, российский ресентимент институционально распадается на внутренний (адресуемый «низами» — нелегитимным в его глазах элитам) и внешний, в чём также заключается его специфика, по сравнению с ресентиментом на Западе.
При этом внешняя ресентиментная «сверхцель» заведомо недостижима, но именно она, полагает автор текста, фундаментальна для понимания российской цивилизационной особости. В частности, именно принципиальная недосягаемость «сверхцели» предопределяет повторяющуюся цикличность российской истории с ее либеральными «оттепелями» (заимствованием отдельных западных институтов) и последующими авторитарно-реставрационными «подмораживаниями». По мнению Д. Коцюбинского, российские «оттепели» и либерализации никогда не доводились до системного завершения, потому что неизбежно сопровождались смутами, т.к. общество не имело опыта самоорганизации в общероссийском масштабе вне самодержавной власти, способной навязывать социуму «тишину и порядок» и, используя механизм общенародного «стокгольмского синдрома», мобилизовывать общество на очередное добровольно-принудительное продвижение к «сверхцели». К этому добавлялось и то, что в сознании самих реформаторов доминировала та же цивилизационная «сверхцель». По этой причине, если не исходные теоретические соображения, то сам ход реформ не мог не подталкивать реформаторов к выводу о невозможности сменить российский ресентиментный код. Автор полагает, что и у будущих реформаторов, если они появятся, вывести российскую цивилизацию из ресентиментной колеи не получится.
Свое описание ресентиментной российской истории, начиная с Александра Невского (точнее, летописных интерпретаций его деяний), Д. Коцюбинский завершает пространным цитированием Николая Карамзина, который описанием конкретных событий этой истории иллюстрирует свою мысль о несовместимости российского имперско-державного проекта с европейскими «вольностями». Он совместим только с самодержавием — желательно просвещенным. Но просвещенное самодержавие, как известно, не утвердилось в России тоже.
Мы предваряем публикацию работы Д. Коцюбинского этим предисловием для того, чтобы уже в нём показать её дискуссионность. В обсуждении нуждается и концепт российского ресентимента, который в ней обосновывается, и предлагаемая под этим углом зрения интерпретация российского прошлого, настоящего и возможного будущего. Тем более, что интерпретация автором настоящего как максимального за всю историю приближения к российской «сверхцели» представляется сомнительной, а насчёт будущего он и сам, похоже, колеблется: с одной стороны считает, что альтернативы российскому ресентиментному проекту в будущем не предвидится, а с другой — что и он может не состояться по причине исчерпанности для его пролонгации идейных ресурсов.
Так что приглашаем желающих к такому обсуждению, исходя из того, что российский ресентимент — это проблема, с которой сталкивались все российские реформаторы, но никто из них её, как проблему, не осознавал.
Игорь Клямкин, президент Фонда «Либеральная миссия»
Даниил Коцюбинский — к.и.н.,
научный сотрудник Европейского университета в СПб,
научный сотрудник МЦСЭИ «Леонтьевский центр»
Структура завершённого ресентимента
(на примере российской истории)
Часть I
Посвящаю этот текст светлой памяти Григория Конникова (1996–2023) — прекрасного историка, верного друга и очень доброго человека
Краткая Begriffsgeschichte

- Истоки происхождения термина ressentiment
На протяжении второй половины XX в. понятие ресентимента (ressentiment, resentment), вошедшее в социально-философский язык ещё в середине предыдущего столетия, активно разрабатывалось в руслах практически всех гуманитарных дисциплин.
В начале XXI в. этот процесс стал ещё более плотным, в том числе в связи с массовым увлечением западными гуманитариями «критической теорией» (critical theory), фокусирующей внимание на проблематике эмансипации социально и политически «слабых» по отношению к «сильным» — обладающим властью, богатством, привилегиями, etc.
Одними из наиболее дискуссионных сюжетов новейшего дискурса о ресентименте являются понимание и оценка не только феномена ресентимента, но также самого этого термина (западные авторы используют две версии его написания — ressentiment и resentment, порой наделяя их разными смысловыми оттенками, о чём будет подробно сказано далее). В этой связи представляется необходимым начать с Begriffsgeschichte, т.е. с исторического очерка данного понятия.
Историко-филологические истоки термина «ресентимент» по сей день до конца не ясны. Одна гипотеза предполагает, что французский ressentiment — производная от ныне устаревшего и имеющего древние французские корни английского слова resentiment (1590-е гг.), обозначавшего «чувство или предчувствие (чего-либо); состояние глубокого воздействия (чего-либо)» (позднее resentiment эволюционировал в современное английское слово resentment). Другая версия гласит, что французский ressentiment возник в 1610-х гг. как субстантивированная производная от французского глагола ressentir (возмущаться). [1]
Как бы то ни было, очевиден исходный семантический разброс обоих понятий — английского и французского. Если староанглийский resentiment делал акцент на факторе воздействия внешней силы на субъекта, то французский ressentiment подчёркивал встречную протестную реакцию самого субъекта, столкнувшегося с чем-то для него неприемлемым.
Основоположники современного дискурса о ресентименте — Фридрих Ницше и Макс Шелер — использовали в своих работах именно франкофонную, субъекто-ориентированную версию этого понятия: ressentiment.
В русскоязычную литературу данный термин «иммигрировал» как своего рода гибрид французского и английского слов, то есть с «и» (i), как во французской и староанглийской версиях, и с одним «с» (s) вместо двух, как в современной английской. Как будет видно из дальнейшего, данная «гибридная» форма русскоязычного термина с одной стороны помогает терминологически обобщать разные формы ресентимента, но с другой стороны частично затрудняет детализированную типологизацию рассматриваемого понятия (хотя и не делает её невозможной).
- Сёрен Кьеркегор: ressentiment как свойство «бесстрастной эпохи»

Søren Aabye Kierkegaard (1813–1855)
Первым среди философов Нового времени к термину ressentiment [1] обратился датский философ Сёрен Кьеркегор. В работе «Два века. Литературный обзор»[2] (1845) он противопоставил страстную и личностно-деятельную «эпоху революции» — «нынешней эпохе», конформистской, пассивно-рефлексивной и обезличенной: «Сегодня наблюдается тенденция к математическому равенству, так что во всех классах примерно столько-то человек составляют по факту одного человека»; «До тех пор, пока отдельный человек не выработает этическую позицию вопреки всему миру, не может быть и речи о подлинном человеческом объединении. В противном случае это будет союз людей, которые по отдельности слабы, — союз столь же некрасивый и порочный, как детский брак. <…> Когда человек произносит чистую чушь, бесполезно пытаться сформулировать из этого связную речь; лучше рассматривать каждое слово в отдельности. Так же обстоит дело с отдельными людьми»[3].
Самым зловредным свойством «нынешней эпохи», согласно Кьеркегору, оказывался её ressentiment: пропитанность завистью к сильным, успешным и креативным — и стремлением их подавить, «выровнять». При этом основоположник философии экзистенциализма обратил внимание на то, что ressentiment бывает двух видов или, лучше сказать, двух уровней силы и полноты — условно говоря, нормальный (фоновый) и патологический (властно выходящий на авансцену) хотя сам Кьеркегор определениями «нормальный» и «патологический» применительно к ressentiment не пользовался.
Фоновый ressentiment объясняется самой человеческой природой и существует всегда, т.е. даже в «эпоху революции»: «Основная истина человеческой природы заключается в том, что человек не способен постоянно пребывать на высоте, продолжать восхищаться чем-либо. Человеческая природа нуждается в разнообразии. Даже в самые восторженные века люди всегда любили завистливо шутить над своими начальниками. Это совершенно правильно и вполне оправданно, пока, посмеявшись над великими, люди могут снова смотреть на них с восхищением <…>. Таким образом, ressentiment находит выход даже в восторженный век. И пока век, пусть даже менее восторженный, имеет силу придать ressentiment’у его надлежащий характер <…>, ressentiment имеет своё собственное, хотя и [потенциально, – Д.К.] опасное значение»[4].
Но по мере того, как рефлексивная эпоха вступает в свои права, «чем больше рефлексия берёт верх [над страстностью, – Д.К.] и тем самым делает людей ленивыми, — тем опаснее становится ressentiment, потому что у него больше нет достаточного характера, чтобы осознать своё [истинное, – Д.К.] значение. Лишённая характера рефлексия труслива и склонна к колебаниям. В зависимости от обстоятельств, она интерпретирует одну и ту же вещь по-разному. Она пытается относиться [к любой значительной вещи, – Д.К.] как к шутке, а если это не удаётся, то считает это оскорблением, а если и это не удаётся, то пытается вообще отмахнуться. <…> Ressentiment, который является результатом бесхарактерности, никогда не может понять, что выдающееся отличие действительно является отличием. Он также не понимает самого себя, оценивая отличие негативно (как в случае остракизма), <…> хочет принизить его [то, что выделяется, – Д.К.], чтобы оно действительно перестало быть отличительным. <…> Торжествующая ресентиментность — это процесс выравнивания <…>. В своей максимальной степени процесс выравнивания — это мёртвая тишина, в которой можно услышать биение собственного сердца, тишина, которую ничто не может пронзить, в которой всё поглощено и бессильно сопротивляться. Один человек может быть во главе восстания, но никто не может быть во главе процесса выравнивания в одиночку, поскольку в этом случае он был бы лидером и, таким образом, избежал бы выравнивания. <…> процесс выравнивания является победой абстракции над индивидуумом. <…> Каждому должно быть очевидно, что глубокое значение процесса выравнивания заключается в том, что он означает преобладание категории “поколение” над категорией “индивидуальность”»[5].
Таким образом, взгляды Кьеркегора на феномен ressentiment можно резюмировать следующим образом.
Во-первых, это психологическая интенция, присущая «выровненной» толпе («поколению») и противостоящая устремлениям ярких одиночек («индивидуальностей»).
Во-вторых, ressentiment существует в двух формах/фазах:
1) Нормальной, более характерной для революционной («восторженной») или близкой к революционной («менее восторженной») эпох, когда толпа, условно говоря, знает своё место и взирает на ярких индивидуумов с восхищением, хотя и позволяет себе иронизировать над ними.
2) Патологической, оформляющейся в рефлексивную, бесстрастную — противоположную революционной — эпоху, когда социум подавляет творческие способности и индивидуальность страстных личностей. И когда последние становятся в итоге козлами отпущения и объектами насмешек со стороны масс, жаждущих сохранять незыблемый рефлексивно-бесстрастный статус-кво и испытывать в условиях стагнации чувство собственного превосходства.
- Фридрих Ницше: ressentiment как «мораль раба»

Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844–1900)
Первым, кто подробно и всесторонне описал феномен ресентимента и по праву считается основоположником современного дискурса об этом явлении, стал продолжатель неклассического вектора в развитии европейской философии Фридрих Ницше[6], посвятивший теме ресентимента один из своих самых исторически резонансных трактатов: «К генеалогии морали» («Zur Genealogie der Moral: Eine Streitschrift», 1887)[7].
Ницше обратился к теме rеssentiment независимо от Кьеркегора, при этом так же, как и датский философ, описав ressentiment как психологическое качество, присущее в первую очередь социально слабым субъектам и их группам.
Ницше определил ressentiment как «рабскую мораль», основанную на культе и оправдании собственной слабости перед лицом зависимости от внешней силы. То есть как систему этических рефлексий «раба» (субъекта зависимости) по отношению к своему «господину» (объекту зависимости).
Ressentiment, о котором пишет Ницше, не следует путать с протестной реакцией депривированного индивидуума или сообщества против угнетения, выражающейся в форме открытой борьбы либо сознательной подготовки к ней.
Ressentiment в версии Ницше — это, говоря языком современной психологии, форма устойчивой психологической защиты, то есть адаптации человека или общества к стабильной несвободе (социальной либо политической), а не форма открытого протеста против неё.
Все элементы, входящие в структуру ресентимента, являются по сути не чем иным, как различными «методиками» предоставления индивидууму или социальной группе, пребывающим в крайне уязвимом и ничем не защищённом «рабском» статусе, шанса на то, чтобы:
Во-первых, канализировать неизбежно накапливающиеся в этой связи негативные переживания в безопасные «боковые» мнимо-протестные русла;
Во-вторых, убедить себя — посредством ряда психологических аберраций и хотя бы на уровне декларативного «идейного обоснования» — в собственной достойности и «первосортности».
Согласно Ницше, главная задача ressentiment — помочь «рабу» преодолеть отвращение к своему униженному статусу и к самому себе.
Прежде всего эта цель достигается за счёт многовекторной негативной рефлексии, связанной с комплексом переживаний «рабом» тотальной зависти-ненависти к «господину».
Отсюда вытекает важнейшее свойство ressentiment — его реактивность. «Раб» безостановочно эмоционально-негативно размышляет о «господине» — о его моральных качествах, его системе ценностей, его материальной мощи, его неизбывной «вине» перед рабом: «Это превращение [выворачивание] наизнанку определяющего ценности взгляда, это неизбежное обращение к внешнему и равнение на него, вместо обращения к самому [себе] и равнения на себя именно и характерно для ressentiment. Мораль рабов для возникновения своего всегда нуждается первоначально во враждебном и внешнем мире, она нуждается, говоря физиологически, во внешнем раздражении, чтобы вообще действовать, — деятельность её в основе своей является реакцией»[8].
Именно в этих реактивных переживаниях аккумулируется защитно-психологический ресурс слабости, стремящейся морально возвыситься над силой.
Реактивность ressentiment — рационально не контролируема, то есть в известном смысле «инстинктивна», что вполне логично: чем слабее человек, тем менее он способен подавлять, усилием разума и воли, свои реакции. И напротив, чем более человек является сознательно активным, волевым и динамичным, тем меньше у него остаётся места и времени для непрерывных размышлений о том, до какой степени несправедливо его существующее положение, а также о том, в какой мере в его невзгодах и неудачах виноваты внешние силы. Реакция сильного и волевого субъекта на силу, которая в какой-то момент нацелилась против него, в идеале представляет собой короткое контрдействие и не превращается в длительное наполнение ментального мира человека мучительными рефлексиями, не вызывающими при никакого встречного действенного, а не чисто фантазийного акта.
Одним словом, ressentiment — это константное реактивное чувство, которое «раб» испытывает по отношению к «господину».
При этом иррациональная реактивность ressentiment отнюдь не порождает у её субъекта ментальной прострации. Напротив, она подвигает человека ressentiment на непрерывную и неутомимую реактивную креативность: «Восстание рабов в морали начинается с того, что ressentiment становится творческим и порождает ценности: ressentiment таких существ, которые на самом деле не способны к настоящей реакции, которые поэтому вознаграждают себя воображаемой местью»[9].
Таким образом, именно жажда реванша, или мести «раба» — «господину», является «вечным двигателем» реактивной креативности ressentiment. Ницше описывает эту чаемую «рабом» сатисфакцию как абсолютно бескомпромиссную: «Месть, не видящая и не признающая ничего, кроме точки зрения потерпевшего»[10].
Первым реактивно-творческим актом человека ressentiment является формальное отрицание всего того, на чём основан, в его представлении, мир «господина»: «Между тем, как благородная мораль возникает из торжествующего утверждения себя самого, рабская мораль с самого начала говорит “нет” “внешнему”, “иному”, “не себе”: и это “нет” и является её творческим деянием»[11].
Человек ressentiment создаёт свою мораль как перевёрнутую мораль господина, как её творчески проработанную антитезу: «Нужно спросить себя, кто, собственно, является злым, согласно морали ressentiment. Строго говоря, это и есть именно “хороший”, с точки зрения другой морали, именно благородный, могущественный, господствующий, только получивший иную окраску, иное значение, обратное изображение в ядовитом глазу»[12].
В противовес «господской морали» человек ressentiment создаёт свою особую — альтернативную мораль, которая оказывается, конечно же, насквозь фальшивой.
Громко отрицая систему ценностей «господина», в реальности человек ressentiment тайно жаждет завладеть ею. Басня «Лиса и виноград» — наглядная иллюстрация этой стороны «рабской морали». Скрытый девиз Лисы можно сформулировать так: «Виноград “зелен” ровно до тех пор, пока я не смогу до него дотянуться». Такова суть этой внутренне лживой, но воспринимаемой субъектом как истинно правильная, поведенческой установки[13].
Одним из ключевых проявлений «перевёрнутой» ресентиментной морали является ложное смирение, выражающееся в стремлении прикрыть собственную слабость декларативными заявлениями о своей доброте и отзывчивости: «…трусость [человека ресентимента] <…> его стояние у двери, неизбежная для него необходимость ждать, получает здесь хорошее название: “терпение” — и зовётся “добродетелью”. Невозможность отомстить называется нежеланием мстить, может быть даже прощением…»[14].
Мнимые терпеливость и доброта человека ressentiment оборачиваются агрессией, жестокостью и бессердечием, как только у носителя рабской морали появляется повод столкнуться с кем-то более слабым. Особенно, если этот более слабый в прошлом был тем сильным, от которого человек ressentiment «рабски» зависел[15].
Совокупность травматичных рефлексий, связанных с формальным отрицанием моральных и статусных ценностей «господина» — на фоне потаённой жажды завладеть всеми этими ценностями и мечты о финальной мести — срастается, согласно Ницше, в грандиозную конспирацию «рабов» против «господ», в «заговор немощных против удачных и победоносных»[16].
Своеобразная моральная плата за перечисленный выше комплекс «ядовитых» душевных качеств — отсутствие в структуре ресентимента такого ключевого для любой цивилизации культурного элемента, как «модель счастья». Точнее, «модель счастья» для человека ресентимента выступает в извращённой форме «модели несчастья для другого» (мечта о том, «чтобы у соседа корова сдохла»). А ещё точнее, она устремлена к тому, чтобы объект зависти человека ресентимента был, наконец, повержен и уничтожен[17]. «Зависть, — отмечает в этой связи исследователь философии Ф. Ницше из Мельбурна Майкл Юр, — как предположил Аристотель, направлена на то, чтобы лишить других блага, а не приобретать его для себя. Ницше прекрасно передаёт эту злобную зависть: “Этот человек терпит неудачу в чём-то, в конце концов он восклицает в ярости: ‘Тогда пусть весь мир погибнет!’ Это чувство мятежа является вершиной зависти, которая утверждает: поскольку есть что-то, чего я не могу иметь, весь мир не будет иметь ничего! Весь мир не будет иметь ничего!”[18]»[19].
Фундаментальную несчастливость человека ressentiment, порождающую у него глубочайшую фрустрацию, Ницше охарактеризовал понятием «нечистой совести».
Нечистая совесть возникает вследствие того, что своей иссушающей душу непрерывной завистью-ненавистью, адресованной «кому-то первосортному», человек ressentiment подменяет нечто абсолютно ценное и необходимое: собственную свободу или хотя бы стремление к ней. Иными словами, он подавляет инстинкт свободы, который есть от рождения у любого человека (как и вообще у любого живого существа) и который является главным психологическим препятствием на пути истинного (а не самообманного) смирения человека с его вынужденным рабским состоянием и самоощущением. Подавление базового инстинкта — инстинкта свободы — вызывает у человека ressentiment, несмотря на любые его внешние декларации, глубинное чувство собственной второсортности, порождённое ощущением своей системной несвободы[20]: «Этот насильственно обращенный в скрытую форму инстинкт свободы <…> оттесненный назад, отодвинутый, замурованный внутрь <…>, только это первоначально было нечистой совестью»[21].
Нечистая совесть, этот «побочный эффект» от подавленности инстинкта свободы, не позволяет человеку ressentiment почувствовать себя счастливым даже в ситуации частичного успеха. Тем более, что психологически деструктивный феномен нечистой совести остаётся глубоко запрятанным, «не проговорённым», и от этого не позволяет найти конструктивные пути для его преодоления, а значит, и для преодоления фундаментальной неудовлетворённости «раба» своим недостойным статусом.
Именно нечистая совесть толкает «раба» к следующему акту реактивного творчества. А именно, к тому, чтобы переложить ответственность за своё бедственное и недостойное состояние на другого. А точнее, на объект зависти, то есть на «господина»: «Когда же, собственно, пришли бы они [люди ressentiment, – Д.К.] к своему последнему, тончайшему, высочайшему триумфу мести? Несомненно, тогда, если бы им удалось отравить душу счастливым, навязав им свое собственное бедствие, все бедствия и страдания вообще…[22]»; «“Я страдаю: должен быть кто-нибудь виноват в моём страдании”, — так думает каждая болезненная овца»[23].
Ressentiment, в понимании Ницше, — это механизм переназначения боли, вызываемой чувством собственной неполноценности/неудачливости. А точнее, механизм преобразования внутренней, до конца не отрефлексированной боли — во внешнюю рефлексивную ненависть к «козлу отпущения»/«козлу-провокатору», которого можно обвинить в собственной неполноценности/неудачливости.
В свою очередь, стремление к уклонению от личной моральной ответственности за свои поступки толкает людей ресентимента к стадности: «Все больные, болезненные <…>, из желания стряхнуть с себя глухое чувство недовольства и слабости, инстинктивно стремятся к стадной организации»[24].
Естественным продолжением стремления к стадности является тяготение к иррациональной агрессии. «Бунт бессмысленный и беспощадный» оказывается ещё одним способом психологической разрядки накопившегося напряжения от переизбытка «нечистой совести», рождённой продолжительным пребыванием в униженном состоянии[25]: «…каждый страдающий инстинктивно ищет причины своих страданий; точнее, он ищет виновника, точнее — ответственного за страдания виноватого, словом, чего-нибудь живого, на чем можно было бы действием, хотя бы in effigie [символически, – Д.К.] разрядить под каким-нибудь предлогом свои аффекты; потому что разряжение аффекта представляет величайшую попытку со стороны страдающего достичь облегчения, заглушения боли, это его помимо воли желанный наркотик против всякого рода муки»[26].
Предложенное Ницше детальное описание феномена ressentiment позволяет увидеть в нём своего рода «анти-аристократическую мораль», которая отрицает категорию чести как ценности, стоящей выше материально-прагматических расчётов. Место чести в системе «рабской морали» занимают «почести», то есть социальный успех, притом заполучаемый любой ценой, включая ложь, предательство, насилие и иные средства достижения результата, отвергаемые традиционной аристократической этикой[27]. Согласно имплицитным установкам ресентиментного социума, это нормально, когда люди «думают одно, говорят другое, а делают третье», ибо только так физически или духовно слабый имеет шанс не только выжить, но и победить. Демонстративная ложь, если она сопряжена с успехом, согласно канонам «рабской морали», является не чем-то аморальным, а поведенческой нормой[28], обозначаемой позитивно коннотированным понятием «смекалка».
В целом Ницше описал ressentiment как глубоко внутренне противоречивое — и по своей структуре, и по своему функционалу — явление, де-факто бросающее вызов человеческой природе. И прежде всего заставляющее человека мириться с подавлением одной из своих фундаментальных императивных потребностей — в осознании своей личной и групповой первосортности[29]. То есть если и не быть в полной мере свободным, то хотя бы чувствовать себя таковым.
Как следует из всего вышерассмотренного, определяя ressentiment как «рабскую мораль», Ницше использовал скорее яркую публицистическую метафору, нежели беспристрастную научную дефиницию (неслучаен подзаголовок трактата: «Eine Streitschrift» — «Полемика»). Под «рабством» Ницше подразумевал институционально сложившуюся и самообманно самооправданную слабость–зависимость — как моральную, так и физическую.
Иными словами, под человеком ressentiment Ницше понимал не буквального раба, но конституционально слабого, завидующего сильному (более богатому, более успешному, более свободному, более счастливому и т.д.), которого слабый не в силах одолеть или превзойти и на которого в итоге «сваливает» всю ответственность за своё ущербное состояние, вырабатывая, на базе механизмов психологической защиты, систему «рабской морали». При этом своим «господином» человек ressentiment может «назначить» кого угодно, на ком концентрируются его завистливо-ненавистнические рефлексии и фантазии: «Люди страдающие обладают ужасною готовностью изобретать предлоги для мучительных аффектов; они наслаждаются уже своею подозрительностью, копанием в своих скверных качествах и в кажущихся обидах, они в состоянии перерыть все внутренности своего прошлого и настоящего в поисках тёмных, неразрешённых историй, где для них открывается полный простор захлёбываться мучительными подозрениями и опьяняться ядом собственной злости, — они бередят самые застарелые раны, они истекают кровью из давно залеченных рубцов, они видят злодея в друге, в жене, в детях и во всех, кто больше всего близок им»[30].
Как мы увидим далее, в этой метафорической заострённости рассуждений Ницше о феномене ressentiment, — когда в роли «раба» и «господина» зачастую оказывались люди, даже не находящиеся друг с другом в формально иерархических отношениях, — содержались одновременно как некоторая теоретическая недосказанность, так и отправной пункт для дальнейшего развития концептуального дискурса о ресентименте.
Также следует отметить, что, говоря о человеке ressentiment, Фридрих Ницше имел в виду не только отдельно взятых индивидуумов и даже не столько их, сколько исторические протяжённые культурные сообщества.
Резюмируя, необходимо заключить, что концепция Ницше содержит несколько существенных и концептуально оформленных отличий от взглядов Кьеркегора. Самым важным среди них явилось всестороннее рассмотрение ressentiment как социально константного явления, не зависящего от «ветра времени». При этом, как ясно следует из текста «К генеалогии морали», её автор вёл речь о той патологической форме ressentiment, которую Кьеркегор считал темпорально преходящей и которую относил лишь к «бесстрастным эпохам». Однако, «побочным эффектом» данного важнейшего наблюдения Ницше — о константности ressentiment в его самых «ядовитых» проявлениях — стал своего рода «шаг назад», по сравнению с концепцией Кьеркегора, включавшей представление о существовании двух разных форм ressentiment: нормальной и патологической. В отличие от Кьеркегора, Ницше видел к ressentiment структурно и функционального гомогенный, притом сугубо зловредный по своим социально-психологическим последствиям, феномен. В дальнейшем, как мы увидим далее, Максу Шелеру удалось успешно и органично соединить оба эти подхода.
Но перед тем, как перейти к анализу концепции ressentiment Макса Шелера, представляется необходимым сказать несколько слов в поддержку концептуальной значимости теории ressentiment Фридриха Ницше. Это видится важным в свете того, что многие современные западные авторы, особенно стоящие на позициях «критической теории» (как это будет показано ниже), стремятся «отмежеваться» от ницшеанского понимания ресентимента, ставя целью морально-политическую реабилитацию последнего как социального явления и подвергая в связи с этим оценки и характеристики ressentiment, содержащиеся в рассуждениях Ницше, оценочной же критике.
В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что понятие ressentiment в философской концепции Ницше, несмотря на всю свою стилистическую экспрессивность и заострённость (отразившуюся, в частности, в пейоративном «параллельном наименовании» ресентимента как «морали рабов»), отнюдь не является «наукообразным ругательством».
Трактат «К генеалогии морали» — более чем серьёзное приглашение к постижению глубинных исторических и социокультурных корней особого типа морали, которая, как и всякая другая мораль, не может быть ни «создана», ни «отменена» в одночасье. И чем более исторически устоявшимся является то или иное сообщество, тем в меньшей степени структурирующая его мораль может быть скорректирована «сверху». Наоборот: тем в большей степени сама эта мораль корректирует власть «снизу», являясь системообразующим фактором всей гражданско-политической культуры сообщества ресентимента.
Основанная на подробно описанной Ницше ресентиментной морали политическая культура может быть описана как формирующая такой социум, где «все завидуют всем» и никто не чувствует себя стабильным и гарантированным от силового произвола. В таком обществе не уважают ни прав, ни традиций (если они не подкреплены силовым авторитарным вердиктом), ни договорённостей, ни друг друга. В нём нет ни репутаций, ни суда, а есть лишь «милости» и «опалы», то есть, привилегии и репрессии[31].
В то же время реактивная креативность и предельная пластичность рабской морали, что также имплицитно следует из подробного описания ressentiment, данного Фридрихом Ницше, позволяет слабым культурно-историческим сообществам выигрывать в поединке с сильными на длинной исторической дистанции. Дело в том, что сильный в какой-то момент может застыть в своей «цивилизационной гордыне» и соответствующих самоограничениях. Слабый же за это время накапливает чисто силовой вес и в итоге одолевает и порабощает своего экс-господина[32] (как это случилось, например, в финале отношений между Москвой и Ордой, о чём будет подробно рассказано в следующих разделах настоящей работы).
- Макс Шелер: ressentiment как нормальная реакция и как патологическая конституция

Max Scheler (1874–1928)
Представитель следующего поколения немецких философов — феноменолог Макс Шелер продолжил начатое Фридрихом Ницше концептуальное осмысление ressentiment как структурообразующего элемента морали.
Развивая линию рассуждений Ницше, Шелер соглашался с ним не во всём. В частности, отказывался видеть черты ressentiment в христианстве: «Среди сделанных в новейшее время немногочисленных открытий в области происхождения моральных оценок открытие Фридрихом Ницше ресентимента как их источника — самое глубокое, несмотря на всю ошибочность его специального тезиса о том, что христианская мораль, а в особенности христианская любовь, — утончённейший [возвышенный – sublim[33], – Д.К.] цветок ресентимента»[34].
И хотя название книги самого Шелера подчёркивало моральную природу феномена ressentiment, в пылу полемики с Ницше автор «Ресентимента в структуре моралей» заявлял о некорректности рассмотрения ресентимента как особого типа нравственности: «…подлинные, истинно нравственные ценностные суждения не могут основываться на ресентименте, — на нём строятся лишь ложные, вырастающие из ценностных заблуждений оценки и соответствующая им направленность поступков и жизнедеятельности. Ницше ошибается, когда думает, что корнем подлинной нравственности может быть ресентимент. <…> Ницше в принципе говорит то же самое [что ресентимент аморален, – Д.К.], когда пишет о “фальсификации ценностных таблиц” ресентиментом. Правда, он релятивист и скептик в этике»[35].
Также Шелер постарался «уйти» от публицистически заострённого и по факту метафорического понятия «рабской морали», которым пользовался Ницше. Это словосочетание в работе Шелера присутствует исключительно с отсылкой к соответствующим пассажам Ницше[36]. Более того, с точки зрения Шелера настоящий, а не метафорический, раб не мог быть носителем ресентиментной морали, поскольку, в отличие от свободного, но социально слабого, оказывался не в силах психологически «отделить» себя от господина: «Раб, по природе являющийся рабом или чувствующий и сознающий себя рабом, не испытывает никакого чувства мести, когда хозяин оскорбляет его; точно так же — и распекаемый слуга-подхалим, и ребёнок, получающий затрещину. Наоборот, высокие, сдерживаемые втуне притязания, гордыня, не соответствующая внешнему статусу, особенно благоприятны для пробуждения чувства мести»[37].
Не менее важным отличием рассуждений Шелера о ресентименте стало признание того факта, что в глубинной основе психологически «ядовитого» ressentiment лежат нормальные человеческие реакции, которые слишком долгое время пребывали под систематическим запретом и не имели возможности свободно проявляться (жирный курсив здесь и далее в тексте мой, – Д.К.):
«Ресентимент — это самоотравление души, имеющее вполне определённые причины и следствия. Оно представляет собой долговременную психическую установку, которая возникает вследствие систематического запрета на выражение известных душевных движений и аффектов, самих по себе нормальных и относящихся к основному содержанию человеческой натуры, — запрета, порождающего склонность к определённым ценностным иллюзиям и соответствующим оценкам. В первую очередь имеются в виду такие душевные движения и аффекты, как жажда и импульс мести, ненависть, злоба, зависть, враждебность, коварство. Важнейший исходный пункт в образовании ресентимента — импульс мести»[38]; «…чрезвычайное напряжение между импульсом мести, ненависти, зависти и их проявлениями, с одной стороны, и бессилием, с другой, приводит к той критической точке, когда эти аффекты принимают “форму ресентимента”»[39]; «Только там существуют условия для его [ресентимента, – Д.К.] возникновения, где особая сила этих аффектов идёт рука об руку с чувством бессилия от невозможности претворить их в поступки, и поэтому их “сдерживают, закусив губу”, — из-за физической или духовной слабости, из страха и трепета перед тем, на кого направлены аффекты»[40].
Иными словами, Шелер подчеркнул тот факт, что ressentiment — это своего рода «горький уксус», в который превращаются изначально нормальные, хотя и негативные аффекты, случающиеся у всех людей. Однако для того, чтобы эти аффекты «перебродили» и превратились в ressentiment, необходимы особые условия. А именно, длительное пребывание в «закупоренном состоянии», т.е. под запретом на свободное проявление.
Также Шелер обратил внимание на то, что возникновение ressentiment может иметь как нормально-реактивное, вызванное упомянутым выше воздействием со стороны внешних факторов (продолжительных запретов на проявления негативных аффектов), так и, если говорить языком современной психопатологии, аутохтонное (более устоявшееся в речевой практике как эндогенное) происхождение, напрямую уже не связанное ни с какой экзогенной причиной:
«Почва, на которой произрастает ресентимент, — это прежде всего те, кто служит, находится под чьим-то господством, кто понапрасну прельстился авторитетом и нарвался на его жало. Там, где он [ресентимент, – Д.К.] обнаруживается у кого-то другого [т.е. не у человека, находящегося под чьим-то господством, – Д.К.], либо имел место перенос посредством психического заражения (речь идёт о тех, кто особенно подвержен воздействию необыкновенно прилипчивой отравы ресентимента), либо в самом человеке есть насильственно подавленное влечение, выход которому дал ресентимент и которое теперь проявляется в форме “озлобления” и “отравления” личности»[41].
При этом в случае как внешней обусловленности, так и внутренней предрасположенности к ressentiment важнейшим фактором его возникновения является, согласно Шелеру, нежелание либо неготовность (о которых упоминает и Ницше) человека хотя бы к чисто символическому открытому протесту против того, что или кто его гнетёт: «Если слуга, с которым плохо обошлись, позволит себе “выругаться в прихожей”, он не впадёт в ту внутреннюю “ядовитость”, что свойственна ресентименту; но это [«впадение» в ресентимент, – Д.К.] произойдёт, если он должен будет делать “хорошую мину при плохой игре” (как это пластично выражает поговорка), затаив в себе отрицательные, враждебные аффекты»[42].
Как можно заметить из цитированных выше фрагментов, Макс Шелер — так же, как до него Сёрен Кьеркегор — рассматривал ressentiment как явление, существующее в двух формах, или, правильнее сказать, в двух качественно различных степенях выраженности: нормальной и патологической (хотя ни Кьеркегор, как уже отмечалось выше, ни Шелер этими антонимическими эпитетами в данном случае не пользовались).
Кьеркегор, как мы помним, противопоставлял фоново-самоограниченный (нормальный) ressentiment «революционного / близкого к революционному времени» — системно-всеохватному (патологическому) ressentiment «рефлексивной эпохи».
В свою очередь, Шелер противополагал объективно-реактивный (нормальный), не совершающий «фальсификацию ценностных таблиц» ressentiment — «конститутивно»–эндогенному (патологическому), ставящему всю ценностную иерархию «с ног на голову» (в частости, Шелер считал, что этой второй формой ressentiment «заражена» та часть современной философии, которая восходит к диалектике Г.В.Ф. Гегеля и подменяет созидание — отрицанием: «…всякий образ мыслей, наделяющий отрицание и критику творческой силой, втайне питается ядом ресентимента <…> (для части новейшей философии он стал прямо-таки “конститутивным”…»[43]).
Объективно–реактивный (нормальный) ressentiment в описании Шелера выглядел следующим образом:
«В тех случаях, когда сильное стремление к реализации некой ценности наталкивается на невозможность осуществить это (например, получить какое-то благо), возникает тенденция сознания преодолеть неудовлетворённое состояние напряжения между стремлением и немощью за счёт принижения или отрицания позитивной ценности блага <…>. Это басня о лисе и кислом винограде»[44]; «Однако случаи такого типа — ещё не ценностная фальсификация. Это лишь иной взгляд на вещи <…>. Сама же ценность сладкого винограда (ума, смелости, честности) признается нами, как и прежде. Лиса говорит не о том, что “сладкое” — плохо, а о том, что виноград “кислый”»[45]; «Путём принижения ценности объекта стремления снимается напряжение между силой влечения и переживаемым бессилием — и неприятное чувство, вызванное этим напряжением, постепенно уходит»[46].
Иными словами, согласно Шелеру, нормальный ресентимент способен играть до известной степени психологически конструктивную защитную роль, примиряя человека с невозможностью достичь вожделеемой цели, «выпуская пар» кипящих «внутри котла» негативных аффектов, не имеющих шанса для свободного самопроявления, и не давая этому котлу «перегреваться». Говоря языком медицинской психологии, в данном случае речь идёт о копинг-стратегии, т.е. сознательном совладании субъекта с проблемой, или осознанной форме его психологической защиты.
Однако ressentiment становится патологическим и психологически деструктивным, когда «возгоняется» на качественно новый уровень и становится «конститутивным», то есть доминирующе–константным. Этот патологический ресентимент возникает «изнутри», то есть не из-за объективного внешнего угнетения или ограничения, но вследствие хронической бессильной зависти, основанной на чувстве собственной неадекватности своим же ожиданиям (комплекса неполноценности).
Шелер подробно описал отличие нормального ресентимента, снимающего психологическое напряжение, — от патологического, это напряжение конституирующего:
«…психологический закон снятия напряжения между стремлением и бессилием путём иллюзорной оценки объекта [вышеописанный случай с Лисой и виноградом – Д.К.] приобретает совершенно новый и чреватый разнообразными следствиями смысл, если мы имеем дело с душевной конституцией, определяемой ресентиментом. Зависть, недоброжелательность, злоба, тайная жажда мести наполняют глубины души находящегося во власти ресентимента человека, не имея никакой связи с определёнными объектами: они уже стали твёрдыми установками <…>. Они автоматически выделяют из всех встречающихся им явлений такие их части и стороны, которые могут оправдать фактическое наличие этих чувств и аффектов, подавляя другие»[47].
Именно конституционно оформившийся патологический ресентимент, как было упомянуто выше, приводит к тотальной «фальсификации ценностных таблиц». То есть к выворачиванию всей системы ценностей наизнанку, когда самообман человека ressentiment выходит на принципиально новый уровень. Вместо того, чтобы объявить недосягаемый сладкий виноград «кислым», как это делает нормальный ресентимент, — патологический ресентимент обесценивает спелость и сладость винограда как таковую и утверждает в качестве «истинной ценности» его неспелость и кислость.
При этом Шелер подчёркивает тот факт, что патологический ресентимент формируется на базе изначально нормального ресентимента вследствие длительной эволюции последнего:
«Прогрессирующее развитие этого внутреннего процесса ведёт к фальсификации предметной картины мира. Мир человека, находящегося во власти ресентимента, структурируется вначале по совершенно определённым ценностям жизни — бойкости и живости <…>. Но по мере того как игнорирование позитивных ценностей побеждает тягу к ним, он всё глубже погружается <…> в противоположное этим позитивным ценностям зло. Постепенно оно занимает всё большее пространство в сфере его ценностного внимания. В нём зарождается нечто такое, что пробуждает желание хулить, ниспровергать, унижать, и он цепляется за любой феномен, чтобы через его отрицание хоть как-то себя проявить. Так, оправдывая внутреннюю конституцию своего ценностного переживания, ресентиментный тип непроизвольно “обесценивает” бытие и мир»[48];
«Поскольку человек, находящийся в плену ресентимента, не может осмыслить и оправдать собственное бытие и мироощущение, позитивно оценивая власть, здоровье, красоту, свободную жизнь и прочный быт; поскольку из-за слабости, боязни, страха, раболепия, вошедших в его плоть и кровь, он не способен овладеть тем, что является реальным воплощением этих позитивных ценностей, — постольку его ценностное чувство извращается в направлении признания позитивно-ценным их противоположностей. Он как бы говорит себе: “Всё это гроша ломаного не стоит. Ценности, которые действительно ведут человека к спасению и которые действительно следует предпочесть, заключены в прямо противоположных явлениях — бедности, страдании, боли, смерти”»[49].
Таким образом, патологический ресентимент, согласно Шелеру, оказывается наиболее завершённой и наиболее мощной формой, а лучше сказать, высшей стадией ressentiment: «…наибольшую силу ресентимент набирает тогда, когда определяет всю “мораль” в целом. Лежащие в её основе правила предпочтения извращаются — и то, что раньше было “злом”, кажется “добром”»[50].
Захваченный этим морально-деструктивным процессом, идущим «изнутри души», человек патологического ресентимента непрерывно испытывает травмирующие его переживания уже независимо от внешних обстоятельств. Он может обладать всеми объективными преимуществами в жизни, но при этом остаётся неспособным достичь вожделеемых целей и почувствовать себя «первосортным»:
«Человек, подверженный [конститутивному, патологическому, – Д.К.] ресентименту, постоянно сталкивается в жизни с позитивными явлениями — счастьем, властью, красотой, силой духа, добром и т. д. Как бы он втайне ни грозил им кулаком, как бы ни хотел “вычеркнуть их из этого мира”, чтобы избежать мучений от конфликта между собственным желанием и бессилием его осуществить, — от них никуда не уйти, они словно навязываются! Игнорировать их удаётся не всегда, а в долгосрочной перспективе это вообще невозможно. И если уже трудно противостоять напору позитивных явлений жизни, то бывает достаточно одного их вида, чтобы вызвать порыв ненависти против их носителя Х, не нанёсшего человеку, находящемуся в плену ресентимента, ни малейшего вреда и никак его не обидевшего. <…> Ненависть и вражда такого рола — самые глубокие и непримиримые как раз потому, что никак не обоснованы поступками и повелением “врага”. Ведь направлены они против самого бытия и сущности другого человека, а не против его случайных действий и качеств»[51].
Работа по абсолютной «фальсификации ценностных таблиц», т.е. по выворачиванию ценностей наизнанку и постановки их «с ног на голову», продолжается непрерывно. В её финале человек патологического ресентимента конструирует такую интеллектуальную модель, в которой он мнится себе более успешным, чем объект его ресентиментных переживаний, а последний, соответственно, представляется — и тоже сугубо мнимо — как достойный жалости и снисхождения:
«…теперь — после того, как свершился переворот в ценностном чувстве и соответствующие ему по смыслу оценки распространились в определённой группе, — эти люди [являющиеся для человека ресентимента объектами его непрерывных рефлексий, – Д.К.] уже [в его сознании – Д.К.] недостойны зависти, ненависти, мести. Как раз наоборот, они заслуживают сочувствия, сожаления, ибо погрязли во “зле”. Теперь их появление рождает [у человека ресентимента, – Д.К.] порывы милосердия, соболезнования, сострадания. В той мере, в какой перевёрнутое ценностное чувство ложится в основу “действующей морали” и приобретает силу господствующего этоса, оно переносится (путём традиции, внушения, воспитания) и на обладателей этих ценностей, мнимо развенчанных, воспринимаемых отныне как негативные <…>. Носитель же ресентимента, наоборот, представляется самому себе (на поверхности сознания) “добрым”, “чистым”, “человечным”. Теперь он избавлен от мучений, вызванных необходимостью ненавидеть и мстить при неспособности воплотить это в действие. Хотя, возможно, в глубине души он и признает, что его ощущение жизни отравлено <…>. Итак, здесь [в случае патологического ресентимента, – Д.К.] “девальвируются” не отдельные обладатели позитивных ценностей, как это было в случае обыкновенной, ещё не основанной на [конститутивном, патологическом, – Д.К.] ресентименте ценностной дискредитации, а уже сами ценности»[52].
При этом Шелер особо подчёркивает тот факт, что вся работа по последовательной и доходящей до фазы абсолютности «фальсификации ценностных таблиц» не является следствием сознательной лживости человека ressentiment. Его обман — это в первую очередь обман самого себя, притом обман также абсолютный, в основе которого лежит подсознательное табу на критическое отношение к собственным травматичным переживаниям и порождаемым им идейным конструктам:
«То, что мы называем “фальсификацией ценностных таблиц”, “перетолкованием”, “переоценкой”, — не сознательная ложь и не ограничивается только сферой суждений. <…> В этом случае фальсификация совершается не на сознательном уровне, как бывает при обыкновенной лжи, а на подходе переживаний к сознанию, т. е. в самом процессе формирования ценностного чувства и представлений. С “органической лживостью” мы сталкиваемся там, где <…> в самом процессе воспроизведения в памяти определённого момента действительности <…> делается соответствующая подмена. Тому, кто лжив, незачем лгать! <…> у человека лживого фальсификация происходит путём непроизвольного автоматизма в процессе формирования чувств, представлений, воспоминаний. При этом обычно на поверхности его сознания — само простодушие и чистосердечность»[53].
Таким образом, главными концептуальными приращениями, осуществлёнными Максом Шелером к теории ressentiment, стали следующие.
Во-первых, более углублённое развитие высказанных Сёреном Кьеркегором мыслей о нормальной и патологической версиях данного феномена.
Во-вторых, более структурно детализированное рассмотрение, на базе указанного «двойного взгляда» (отмечающего нормальную и патологическую формы ресентимента), того ressentiment, о котором — как о едином патологическом явлении — писал Фридрих Ницше.
В-третьих, комплексное описание патологического ресентимента как конститутивного по своей природе явления, способного проявлять себя по отношению к объекту, который в реальности не угнетает и ни в чём не ограничивает носителя эндогенной ресентиментной морали.
- Ressentiment и resentment в научно-публицистическом дискурсе XX – XXI вв.

В последующие десятилетия к теме ресентимента обращались многие авторы. Идеи классиков — прежде всего Ф. Ницше и М. Шелера — в одних случаях получали авторизованное развитие, в других сталкивались с частичной встречной критикой, в третьих подвергались подробному реконструктивному анализу[54].

Maximilian Carl Emil Weber (1864–1920)
Макс Вебер в «Социологии религии» — одной из последних своих работ, опубликованной в 1920 г., связал ressentiment с актуальным иудаизмом — религией этического спасения «народа-изгоя». Вебер определил ressentiment как своего рода моральное обоснование социалистических по духу, хотя и религиозных по форме экспектаций — как «явление, сопутствующее той особой религиозной этике обездоленных, которая в смысле, изложенном Ницше, прямо противоречит древней вере и учит, что неравное распределение мирских благ вызвано греховностью и незаконностью привилегированных и что рано или поздно гнев Божий обрушится на них»[55].

Albert Camus (1913–1960)
Альбер Камю в книге под названием «Человек бунтующий», написанной в 1950-51 гг. и опубликованной в 1951 г., название которой отсылало к французскому названию книги М. Шелера — «Человек ненавидящий» («L’homme du ressentiment»), попытался провести принципиальное разграничение, которого не делали ни Ницше, ни Шелер, между разрушительным ressentiment и созидательным по своей природе бунтом.
«Ressentiment прекрасно определён Шелером как самоотравление, как губительная секреция затянувшегося бессилия, происходящая в закрытом сосуде. Бунт, наоборот, взламывает бытие и помогает выйти за его пределы. Застойные воды он превращает в бушующие волны. Шелер <…> подчёркивает пассивный характер ressentiment, отмечая, какое большое место он занимает в душевном мире женщины, чья участь — быть объектом желания и обладания. Источником бунта, напротив, являются переизбыток энергии и жажда деятельности»[56]; «…ressentiment <…> заранее упивается муками, которые он хотел бы причинить своему объекту. Ницше и Шелер правы, усматривая прекрасный образчик такого чувства в том пассаже Тертуллиана, где он сообщает читателям, что для блаженных обитателей рая будет величайшей усладой видеть римских императоров, корчащихся в адском пламени. <…> Бунтарь же, напротив, принципиально ограничивается протестом против унижений, не желая их никому другому, и готов претерпеть муки, но только не допустить ничего оскорбительного для личности»[57]. «В таком случае непонятно, — продолжает Камю, — почему Шелер полностью отождествляет бунтарский дух и ressentiment»[58] (в частности, когда пишет о «Страшном взрыве ресентимента во времена французской революции»[59]). И заключает: «Вопреки Шелеру, я всячески настаиваю на страстном созидательном порыве бунта, который отличает его от ressentiment»[60].
Однако из других пассажей той же книги Камю следует, что точка зрения Шелера, видевшего признаки ressentiment не только в бессильном долготерпении, но и в происходящих при определённых условиях революционных взрывах накопившихся негативных чувств, — отнюдь не лишена оснований:
«Значит ли это [то, что у человека есть экзистенциальный жар души, – Д.К.], что никакой бунт не несёт в себе ressentiment и зависти? Нет, не значит, и мы это прекрасно знаем в наш недобрый век»[61]; «Бунтарская мысль не может обойтись без памяти, ей присуща постоянная напряжённость. Следуя за ней в её творениях и действиях, мы всякий раз должны спрашивать, остаётся ли она верной своему изначальному благородству или же от усталости и безумия забыла о нём — во хмелю тирании или раболепия»[62]. И, наконец, резюме: «…бесчестная, расчётливая революция, предпочитающая абстрактного человека человеку из плоти и крови, отрицает живое существо столько раз, сколько ей это необходимо, и подменяет любовь — ressentiment. Как только бунт, забыв о своих щедрых истоках, заражается ressentiment, он начинает отрицать жизнь, устремляется к разрушению и порождает целую когорту мерзко ухмыляющихся мятежников, рабского отродья, которое сегодня на всех рынках Европы готово запродать себя в любую кабалу. Он перестаёт быть бунтом и революцией, превращаясь в злобу и тиранию. И когда революция во имя власти и истории становится этим чудовищным механизмом убийства, назревает священная необходимость в новом бунте во имя меры и жизни»[63].

Gilles Deleuze (1925–1995)
Жиль Делёз в работе «Ницше и философия», вышедшей в 1962 г., развил концепцию ressentiment, предложенную немецким философом, заострив её социально-прикладную направленность. Вслед за Ницше, Делёз продолжил рассматривать ressentiment как реактивное состояние бытия, отделяющее человека от того, что он может сделать, и уменьшающее его способность к инициативному действию. Делёз интерпретировал трактат Ницше как философский призыв к преодолению человеком и обществом реактивного состояния и переходу к активной жизненной позиции, к тому, чтобы быть способным на самостоятельное действие[64].

René Girard (1923–2015)
В свою очередь, Рене Жирар вступил с Ф. Ницше в концептуальную полемику, в отличие от Ж. Делёза увидев в тексте «К генеалогии морали» признание фатальной неустранимости ressentiment. Со своей стороны Жирар высказал убеждение в том, что как сам ressentiment, так и тесно связанная с ним интенция соперничества вполне успешно могут быть преодолены и искуплены[65].
В целом, на протяжении второй половины XX в. тема ресентимента широко распространилась по всему «гуманитарному спектру» и нашла отражение в работах не только философов[66], но также историков[67], политологов[68], исследователей международных отношений[69], социологов[70], социальных психологов[71], антропологов[72], литературоведов[73], кинокритиков[74], специалистов по расовой[75], социально-классовой и национальной[76], а также гендерной[77] проблематике.
Ряд авторов продолжили работу по дальнейшему развитию выдвинутых С. Кьеркегором и М. Шелером тезисов о различных формах/уровнях ресентимента.
Правда, как будет видно ниже, вклад Шелера в разработку данной части теории ресентимента порой игнорировался, а его точка зрения представлялась как идентичная взгляду Ф. Ницше, рассматривавшего ресентимент как нечто структурно и качественно цельное и неделимое.
В свою очередь, критики Ницше и Шелера предлагали собственные, по их словам, «модифицированные» версии не только того, как следует структурно разделять и классифицировать ресентимент, но также того, как его необходимо характеризовать и оценивать, в том числе морально.
В частности, пейоративные характеристики ресентимента, содержащиеся в работах Ницше, зачастую отвергались и заменялись морально-позитивно окрашенными. В свою очередь, ресентиментные по своей сути революционные устремление к равенству, которые Шелер характеризовал как «страшные», получали оценку как безоговорочно (либо с оговорками) социально-конструктивные и морально оправданные.

В статье «Resentment and Ressentiment», опубликованной в 2001 г., социологи из Центрального Мичиганского университета Б.Н. Мельтцер и Г.Р. Мусолф поставили перед собой задачу «развести» понятия resentment и ressentiment, показав сходства и различия происходящего из французского языка понятия ressentiment — с «более общепризнанной [в англоязычной среде, – Д.К.] эмоцией resentment» и тем самым осуществив «необходимую модификацию концептуализации ressentiment Ницше и Шелером»[78].
Отличия между resentment и ressentiment Мельтцер и Мусолф обозначили следующим образом.
Главная особенность resentment — его краткосрочная ситуативность: это «относительно простое чувство», которым «обычно является краткосрочная реакция на оскорбления личности»[79].
В свою очередь, ressentiment — более сложное чувство. «Вслед за Ницше и Шелером», авторы определили указанный аффект как «хроническое чувство обиды, связанное с мстительными желаниями, которые не могут быть легко реализованы»[80].
При этом, не ссылаясь на Шелера, авторы по сути воспроизвели его структурно-темпоральный в своей основе подход к определению причин, порождающих различные виды ресентимента: «В то время как resentment может возникнуть в любой ситуации социального взаимодействия (включая, конечно, межличностное взаимодействие), в которой человек подвергается нападкам со стороны других, ressentiment, как правило, вызывается более длительными, интенсивными и, иногда, абстрактными факторами»[81].
Как можно заметить, resentment Мельтцера и Мусолфа содержательно не эквивалентен внешне обусловленному (нормальному) ressentiment Шелера. И представляет собой просто ситуативную реакцию на оскорбление (в то время как Шелер имел в виду нечто куда более масштабное и протяжённое во времени — достаточно вспомнить приведённый им пример с «Лисой и виноградом»). Что же касается ressentiment, то это понятие в версии мичиганских социологов по факту «покрывает» собой как нормальную, так и патологическую формы ressentiment, о которых писал Шелер.
Таким образом, вычленив, в качестве типологически самостоятельной, ситуативно-краткосрочную реакцию на оскорбление личности и обозначив её термином resentment, в своих рассуждениях Мельтцер и Мусолф «прошли мимо» важнейшего наблюдения, сделанного Шелером: о стадиально-качественных различиях, существующих между экзогенным (нормальным) — и эндогенным (патологическим) ressentiment.
Указанная особенность теоретических построений мичиганских социологов позволяет предположить, что первоочередным для них являлось концептуально-терминологическое размежевание по вопросу о ресентименте с Ницше и Шелером, а не дальнейшее развитие тех направлений теории ressentiment, которые были намечены и обоснованы её разработчиками.
Стремясь концептуально дистанцироваться от Ницше и Шелера, авторы, что видно из нижеследующего, вступили на путь оппонирования им с позиций «критической теории», восходящей к марксизму и предполагающей подмену причинно-следственного анализа — морально-политическими оценками, определяемыми интересами борьбы за разрушение структур угнетения, изоляции и доминирования[82].
В частности, Мельтцер и Мусолф предприняли попытку глобального морального оправдания ressentiment (не разделяя его на нормальный и патологический, как это делали Кьеркегор и Шелер) в качестве мотива и одновременно инструмента борьбы угнетённых за свои права. С этой целью, во-первых, был отвергнут взгляд, согласно которому «и resentment, и ressentiment, как правило, являются низменными, подлыми эмоциями, к которым прибегают тонкокожие люди и искатели оправданий неудач»[83]. А во-вторых, авторы, по их признанию, последовали примеру «тех учёных, которые указывают на ressentiment как на потенциальный источник индивидуальных и, особенно, коллективных действий и социальных изменений»[84], способных скорректировать социальную несправедливость, и как на эффективный «инструмент индивидуальных или социальных перемен», а на людей ресентимента, в свою очередь, — как на потенциальных или даже актуальных революционеров: «Более того, Фолджер (1987) утверждает, что революционные идеологии могут способствовать созданию ressentiment. То, что ressentiment может быть использован для инициирования (и поддержания) революции, противоречит более пассивным — и презрительным — концепциям, которых придерживались Ницше, Шелер и их многочисленные последователи»[85].
Неучёт важных наблюдений (в том числе структурно-типологических), сделанных классиками темы, а также оценочная идеологизированность работы Мельтцера и Мусолфа затрудняет характеристику предложенной ими типологии ресентимента как эпистемологически валидной.

Michael Ure
Более концептуально перспективной представляется типологическая разработка феномена ресентимента, обнародованная в 2018 г. Майклом Юром, — политологом и специалистом по международным отношениям из Школы социальных наук (Университет Монаша, Мельбурн)[86]. Взяв, так же, как Мельтцер и Мусолф, за основу содержательное разграничение терминов resentment и ressentiment, Юр, в отличие от коллег из Мичиганского университета, вступил в полемику с радикальной версией «критической теории», стоящей на точке зрения морально-политического оправдания ressentiment как мотива и инструмента революционного утверждения социальной справедливости.
Развивая идеи А. Камю и других авторов, М. Юр заявил о том, что «resentment является повторяющейся проблемой для демократии», поскольку «растущие волны resentment могут легко настроить граждан против демократических принципов и способствовать так называемому “демоциду”»[87]. И далее: «Проблема resentment стала ещё более острой за последние 20 лет — с тех пор, как устоявшиеся, так и переходные демократии начали серьёзно относиться к заявлениям о resentment, вытекающем из исторической несправедливости. Демократии теперь также сталкиваются с проблемой преодоления resentment, который нельзя отменить и с которым, как утверждают некоторые, мало что можно сделать. Как заметил Ницше, именно наше бессилие по отношению к прошлому, грубый факт его необратимости заставляет нас “скрежетать зубами” и подпитывает то, что он называет ressentiment»[88].
М. Юр напоминает о том, что, поскольку «политическая физиономия ressentiment» изначально «некрасива», то, — «если современные демократии хотят успешно вести переговоры о рисках и перспективах признания ressentiment», — «необходимо провести трезвый анализ феномена ressentiment»[89].
Также Юр предлагает иное, нежели Мельтцер и Мусолф, содержательное разграничение терминов resentment и ressentiment, выглядящее более структурно обоснованным и коррелирующее с концепцией Шелера.
Начав анализ с рассмотрения «разницы между resentment, как его понимали философы шотландского Просвещения, в частности Адам Смит[90], и идеей Ницше о ressentiment»[91], М. Юр приходит к выводу о необходимости «выделить три различных понятия в современном использовании термина ressentiment. Для удобства я называю эти понятия моральным resentment, социально-политическим resentment и онтологическим ressentiment»[92].
Как нетрудно увидеть, две первые категории, определяемые понятием М. Юром как «resentment», вполне могут быт соотнесены с тем, что М. Шелер описывал как внешне обусловленный — нормальный, конструктивный — ресентимент. Правда, Шелер говорил о внутренне-психологической (копинг-стратегической) конструктивности нормального ресентимента, в то время как Юр пишет о восстановлении, посредством resentment, моральной и социально-политической справедливости, что приближает его рассуждения к полю «критической теории»: «…современные защитники морального resentment убедительно демонстрируют, что эта эмоция является одним из столпов справедливости»; «…мы также сможем защищать социально-политическое resentment как важную эмоцию для выявления и устранения коллективной и систематической несправедливости»[93]; «мотив resentment — восстановление ущемлённых чести или признания-уважения. <…> resentment касается не только индивидуального самоуважения, оскорблённой чести или признания, но также идентификации и защиты общих норм»; resentment «может вовлечь сообщество в признание и защиту норм справедливости»[94].
Третья категория М. Юра — «онтологический ressentiment» — оказывается конгруэнтной понятию «конститутивного» (патологического) ressentiment в терминологии Шелера. Правда, Юр апеллирует в данном случае к Ницше, хотя последний типологического разделения между нормальным и патологическим ресентиментом, как мы помним, не проводил: «Если мы следуем Ницше, то мы должны согласиться, что протест рабов против аристократических привилегий проистекает не из социально-политического resentment, а из ressentiment против основных условий жизни, или того, что мы могли бы назвать онтологическим ressentiment»; «…онтологический ressentiment порождает различные виды тоталитарной или перфекционистской политики»; «…мы признаем за ressentiment статус своеобразной, возможно, даже уникальной современной психологической патологии»[95].
Также, ссылаясь на Ницше (но де-факто в большей степени повторяя Шелера), Юр указал на стадиально-эволюционную связь между resentment и ressentiment, т.е. на способность первых двух нормальных и даже полезных видов resentment (морального и социально-политического) при определённых условиях преобразовываться во второй — онтологический, т.е. патологический ressentiment:
«…социально-политический resentment имеет потенциал вызывать или активизировать онтологический ressentiment»[96]; «Хотя сам Ницше ошибочно считает законный социально-политический resentment признаком физиологической дегенерации, его анализ также проливает свет на то, как эти законные обиды могут трансформироваться в радикальную зависть и “глубокую ненависть к существованию”, которая отождествляет добродетель с жертвенностью. Анализ Ницше предупреждает нас о важной политической проблеме для демократий: а именно, о сползании от социально-политического к онтологическому ressentiment»; «…анализ Ницше также открывает плодотворное направление исследования, говорящее об опасности того, что сохраняющийся социально-политический resentment порождает ressentiment. То есть, указывает на возможность того, что социально-политический resentment может вызвать онтологический ressentiment и сделать его основой для различных видов политических патологий и извращений»; «Ницше показывает, как жертвы могут усугублять несправедливые социальные травмы, от которых они страдают, позволяя своему resentment перерасти в ressentiment. Это скольжение происходит через изобретение или принятие ими ценностных обязательств, которые осуждают как пагубные любое человеческое процветание или счастье. Таким образом, социально-политический resentment переходит в ressentiment — или глубокую ненависть к существованию. Венди Браун и Сонали Чакраварти иллюстрируют, как ressentiment под видом этой саморазрушительной инверсии ценностей поражает новые социальные движения, основанные на идентичности[97]. Как они [эти исследовательницы] показывают, опасность, которая преследует социально-политический ressentiment, направляющий новое социальное движение, заключается в том, что его агенты могут слишком привязаться к бессилию и отождествить его с добродетелью tout court [в любом случае]. Отождествление моральной добродетели со слабостью — это стержень концепции ressentiment Ницше. В обоих случаях жертвы заявляют не о том, что виноград кислый, а о том, что сладость — это зло»[98].
Пример статьи исследователя из Мельбурна, думается, убедительно иллюстрирует тот факт, что перспективным вектором дальнейшего изучения феномена ресентимента является творческое развитие положений, сформулированных основоположниками теории ресентимента, полноценно описавшими и обосновавшими данный термин, а не попытки идеологически мотивированной полемики с классиками темы на базе произвольного и малопродуктивного в научном плане ценностно-смыслового «переиначивания» концепта ressentiment.
Полезными, с точки зрения дальнейшего успешного внедрения понятия ressentiment в язык гуманитарных дисциплин, кажутся опыты ряда современных авторов — как зарубежных, так и отечественных — по формулированию максимально краткого, «экстрактированного» из описаний, содержащихся в работах классиков темы, определения феномена ресентимента. Так, нейросоциолог из Университета Калифорнии Уоррен Д. Тенхаутен, опираясь на труды Ницше и других авторов XIX – начала XX вв. сжато-интегративно определил ресентимент как чувство враждебности, направленное на объект, который человек идентифицирует в качестве причины своего разочарования в самом себе, и позволяющее тем самым возложить на другого вину за указанное разочарование[99]. В свою очередь, современный православный публицист Яков Кротов резюмирует суть рассматриваемого феномена ещё более сжато: «Ресентимент — это ненависть порабощённого человека ко всему, где ему чудится свобода»[100].
(Продолжение следует)
[1] ressentiment (n.) // Online Etymology Dictionary. URL: https://www.etymonline.com/word/ressentiment
Кьеркегор использовал датское слово Misundelse (зависть). В английском издании 1940 г. слово Misundelse было переведено Александром Дрю как Ressentiment, что по сей день вызывает дискуссии среди филологов. Однако, есть основания полагать, что Кьеркегор имел в виду нечто, типологически близкое к тому Ressentiment, о котором будут в дальнейшем писать Ницше и Шелер. Поэтому подробное рассмотрение взглядов датского философа на феномен Misundelse (по факту – Ressentiment) представляется не только оправданным, но и необходимым.
[2] Kierkegaard S. Two Ages: The Age of Revolution and the Present Age, a Literary Review. [Edited and translated by Howard V. Hong Edna H. Hong]. Princeton (N.J): Princeton University Press, 1978. 208 p.
[3] Kierkegaard S. Two Ages: A Literary Review in Essential Kierkegaard / The Essential Kierkegaard [Howard V. Hong – ed., Edna H. Hong – ed.]. – Princeton (N.J): Princeton University Press, 2000. [536 p.] P. 85, 267.
[4] Kierkegaard S. The present age and of the difference between a Genius and an Apostle. [Translated by Alexander Dru. Introduced by Walter Kaufmannby]. New York: Harper Torchbooks, 1962. [108 p.] P. 49–52; Kierkegaard S. Two Ages: The Age of Revolution and the Present Age, a Literary Review…
[5] Kierkegaard S. The present age and of the difference…; Kierkegaard S. Two Ages: The Age of Revolution and the Present Age, a Literary Review…
[6] Коцюбинский Д.А. Цивилизация ресентимента. К постановке проблемы истоков русской политической культуры // Ростовский научный журнал, №3, 2019. [С. 28-64]. С. 56.
[7] Ницше Ф. Генеалогия морали / Ницше Ф. Малое собрание сочинений [Пер. с нем. Ю. Антоновского, В. Вейнштока, А. Заболоцкой и др.] СПб: Азбука, Азбука-Аттикус, 2013. [1056 с.]. С. 727-868.
[8] Там же. С. 748.
[9] Там же. С. 748.
[10] Там же. С. 783.
[11] Там же. С. 748.
[12] Там же. С. 751.
[13] Коцюбинский Д.А. Цивилизация ресентимента. К постановке проблемы… С. 56.
[14] Ницше Ф. Генеалогия морали… С. 757.
[15] Коцюбинский Д.А. Цивилизация ресентимента. Институционально-исторический анализ русской политической культуры / Институциональная экономическая теория: история, проблемы и перспектив. CПб: Закрытое акционерное общество «Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр»», 2019. [С. 109-151]. С. 127.
[16] Ницше Ф. Генеалогия морали… С. 829.
[17] Коцюбинский Д.А. Цивилизация ресентимента. Институционально-исторический анализ… С. 127.
[18] Nietzsche F. [1881] Daybreak: Thoughts on the Prejudices of Morality. [R. J. Hollingdale Trans.]. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. § 304.
[19] Ure M. Resentment/Ressentiment // Constellations: An International Journal of Critical and Democratic Theory. 2015. Vol. 22. № 4. P. 599–613.
[20] Коцюбинский Д.А. Цивилизация ресентимента. Институционально-исторический анализ… С. 126.
[21] Ницше Ф. Генеалогия морали… С. 794.
[22] Там же. С. 831.
[23] Там же. С. 835.
[24] Там же. С. 843.
[25] Коцюбинский Д.А. Цивилизация ресентимента. К постановке проблемы… С. 56.
[26] Ницше Ф. Генеалогия морали… С. 834.
[27] Коцюбинский Д.А. Цивилизация ресентимента. Институционально-исторический анализ… С. 126.
[28] Коцюбинский Д.А. Цивилизация ресентимента. К постановке проблемы… С. 56.
[29] Коцюбинский Д.А. «Новый тоталитаризм» XXI века. Уйдёт ли мода на безопасность и запреты, вернётся ли мода на свободу и право? СПб: ООО «Страта». 2022. [276 с.] С. 176–177.
[30] Ницше Ф. Генеалогия морали… С. 835.
[31] Коцюбинский Д.А. Цивилизация ресентимента. Институционально-исторический анализ… С. 128.
[32] Там же. С. 128.
[33] Шелер М. Ресентимент в структуре моралей. СПб: Наука, Университетская книга, 1999. [231 с.]. С. 62.
[34] Там же. С. 11.
[35] Там же. С. 56.
[36] Там же. С. 144, 157.
[37] Там же. С. 20-21.
[38] Там же. С. 13-14; Scheler M. Ressentiment. Translated by William W. Holdheim. [Introduction by Lewis A. Coser]. New York: Schocken Books, 1972. [201 p.]. P. 48.
[39] Шелер М. Ресентимент в структуре моралей… С. 49.
[40] Там же. С. 18.
[41] Там же. С. 18.
[42] Там же. С. 18-19.
[43] Там же. С. 47.
[44] Там же. С. 57.
[45] Там же. С. 57-58.
[46] Там же. С. 58.
[47] Там же. С. 59.
[48] Там же. С. 59-60.
[49] Там же. С. 62.
[50] Там же. С. 68.
[51] Там же. С. 60-61.
[52] Там же. С. 62-63.
[53] Там же. С. 64.
[54] Frings M.S. The Mind of Max Scheler: The First Comprehensive Guide Based on the Completed Works. Milwaukee: Marquette University Press, 2001. 324 p.; TenHouten W., From Ressentiment to Resentment as a Tertiary Emotion // Review of European Studies. 2018. № 10. P. 49-64.
[55] Weber M. The Sociology of Religion. Boston: Beacon Press, 1993. [304 p.] P. 110.
[56] Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство: Пер. с фр. М.: Политиздат, 1990. [415 c.] C. 130.
[57] Там же. С. 130-131.
[58] Там же. С. 131.
[59] Шелер М. Ресентимент в структуре моралей… С. 20.
[60] Камю А. Бунтующий человек… С. 132.
[61] Там же. С. 131.
[62] Там же. С. 134.
[63] Там же. С. 355.
[64] Делёз Ж. Ницше и философия. [Перевод с французского О. Хомы под редакцией Б. Скуратова]. – Ad Marginem, 2003. 378 с.
[65] Girard R. Violence and the Sacred. Translated by Patrick Gregory. Baltimore (Maryland): Johns Hopkins University Press, 1977. 455 p.
[66] Strawson P.F. Freedom and Resentment and Other Essays. London: Methuen and Company, 1974. 214 p.; Solomon R.C. One Hundred Years of Ressentiment: Nietzsche’s Genealogy of Morals / Nietzsche, Genealogy, Morality: Essays on Nietzsche’s Genealogy of Morals, edited by Richard Schacht. Berkeley: University of California Press, 1995. [502 p.] P. 95–126; Sugarman R.I. Rancor against Time: The Phenomenology of «Ressentiment». Hamburg: F. Meiner, 1980; Siebers T. Resentment and the Genealogy of Morals: From Nietzsche to Girard. // Tobin Siebers. The Ethics of Criticism. Ithaca: Cornell University Press, 1988. [246 p.] P. 124-158; Frings M.S. The Mind of Max Scheler: The First Comprehensive Guide Based on the Completed Works. Milwaukee: Marquette University Press, 2001. 324 p.; Elgat G. How Smart (and Just) Is Ressentiment? // Journal of Nietzsche Studies. 2016. Vol. 47. № 2. P. 247-255; TenHouten W. From Ressentiment to Resentment as a Tertiary Emotion // Review of European Studies. 2018. № 10. P. 49-64; The polemics of ressentiment: variations on Nietzsche. Sjoerd van Tuinen (ed.). London: Bloomsbury Academic, 2018. 242 p.; Moniatovska O. The Phenomenon of Resentment in Culture: Nietzsche, Scheler, Fukuyama // Filosofska Dumka (Philosophical Thought). 2024. № 3. P.184-192.
[67] Marañon, Gregorio. Tiberius: A Study in Resentment. London: Hollis & Carter, 1956. 277 p.
[68] Ball D.W. Covert Political Rebellion as Ressentiment // Social Forces. 1964. Vol. 43. P. 93–101; Betz H.-G. Postmodern Politics in Germany: The Politics of Resentment. London: Macmillan, 1991. 220 p.; Schuman H., Krysan M. A Study of Far Right Ressentiment in America // International Journal of Public Opinion Research, 1996. № 8. P. 10–30; Ure M. Resentment/Ressentiment // Constellations: An International Journal of Critical and Democratic Theory. 2015. Vol. 22. № 4. P. 599–613.
[69] Wolf R. Resentment in International Relations. Paper prepared for the workshop on «Theoretical Aspects of Emotions in IR». Helsinki. 2012. August 21-22; Brodersen R. Rage, rancour and revenge: existentialist motives in international relations / A thesis submitted to the Department of International Relations of the London School of Economics for the degree of Doctor of Philosophy, London, August 2014. 272 p. URL: https://etheses.lse.ac.uk/3061/1/Brodersen_Rage_Rancour_and_Revenge.pdf; Brighi E. The Globalisation of Resentment: Failure, Denial, and Violence in World Politics. Millennium: Journal of International Studies. 2016. Vol. 44. № 3. P. 411-432.
[70] Yankelovich, Daniel. 1975. ‘‘The Status of Ressentiment in America / Social Research. 1975. Vol. 42. P. 760–777; Frank A.W. Can Sociology Swallow Nietzsche? // Canadian Journal of Sociology. 1992. № 17. P. 99–104; Meltzer B.N., Musolf G.R. Resentment and Ressentiment // Sociological Inquiry. 2002. Vol. 72. № 2. P. 240–255.
[71] Nordstrom C., Edgar Z. Friedenberg E.Z., Gold H.A. Society’s Children: A Study of Ressentiment in the Secondary School. New York: Random House, 1967. 209 p.; Folger R. Reformulating the Preconditions of Resentment: A Referent Cognitions Model / Social Comparison, Social Justice, and Relative Deprivation, edited by J. C. Masters and W. P. Smith. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1987. [306 p.] P. 183–215; Shaeffer R. Resentment against Achievement: Understanding the Assault upon Ability. Buffalo, NY: Prometheus Books. 1988. 198 p.
[72] Borut T. Having «Heart»: Caring and Resentment in Ambonwari, Papua New Guinea // Etnolog, 1993. № 3. P. 158–77.
[73] Weisberg R. Hamlet and Ressentiment // American Imago. 1972. Vol. 29. P. 318–337; Jameson F. Authentic Ressentiment: The ‘Experimental’ Novels of Gissing // Nineteenth-Century Fiction. 1976. Vol. 31. P. 127–149; Beauchamp G. 1982. Resentment and Revolution in Jack London’s Sociofantasy // Canadian Review of American Studies. 1982. № 13. P. 179–192; Horne L. The Way of Resentment in Dombey and Son // Modern Language Quarterly. 1990. Vol. 51. P. 44–62; Bertonneau T. F. Like Hypatia Before the Mob: Desire, Resentment, and Sacrifice in The Bostonians // Nineteenth Century Literature Criticism. 1998. Vol. 53. P. 56–90; Wyman A. The Specter of Freedom: «Ressentiment» and Dostoevski’s «Notes from Underground» // Studies in East European Thought/ 2007. Vol. 59. № 1-2. P. 119-140.
[74] Pierson D.P. Resentment and ressentiment as motivating forces in Better Call Saul // The Journal of Popular Television. 2022. Vol. 10. Iss. 3. P. 269-283.
[75] Pinkerton J. Katherine Ann Porter’s Portrayal of Black Resentment // University Review. 1970. Vol. 36. P. 315–317; Lynch F.R., William R. Beer W.R. «You Ain’t the Right Color»: White Resentment of Affirmative Action // Policy Review. 1990. Vol. P. 64–67; Rollins J. Invisibility, Consciousness of the Other, and Ressentiment among Black Domestic Workers / Working in the Service Society, edited by Cameron L. Macdonald and Carmen Sirianni. Philadelphia: Temple University, 1996. [362 p.] P. 223–243; Balcomb А. Racism, Resentment, and the Reinvention of Truth // Stellenbosch theological journal. 2021. Vol.7. № 1. P. 1–20.
[76] Mann R., Fenton S. Resentment, Classes and National Sentiments / Nation, Class and Resentment. Palgrave Politics of Identity and Citizenship Series. Palgrave, London, 2017. [249 p.]. P. 31–69.
[77] Liff S., Cameron I. Changing Equality Cultures to Move Beyond «Women’s Problems». Gender, Work and Organization. 1997. № 4. P. 35–46; Nehring N. Popular Music, Gender, and Postmodernism: Anger Is an Energy. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1997. 203 p.
[78] Meltzer B.N., Musolf G.R. Resentment and Ressentiment // Sociological Inquiry. 2002. Vol. 72. № 2. [P. 240–255]. P. 240.
[79] Ibid. P. 251.
[80] Ibid. P. 251.
[81] Ibid. P. 251.
[82] Fuchs Ch. Foundations of Critical Theory. London: Routledge, 2021. [280 p.] P. 17–51.
[83] Meltzer B.N., Musolf G.R. Resentment and Ressentiment… P. 249.
[84] Ibid. P. 251.
[85] Ibid. P. 249.
[86] Ure M. Resentment/Ressentiment // Constellations: An International Journal of Critical and Democratic Theory. 2015. Vol. 22. № 4. P. 599–613. URL: https://www.academia.edu/2434176/Resentment_Ressentiment
[87] Ibid. P. 599.
[88] Ibid. P. 599.
[89] Ibid. P. 599-613.
[90] Smith A. [1759] The Theory of Moral Sentiments. Indianapolis: Liberty Classics, 1982. 412 p.
[91] Ure M. Resentment/Ressentiment… P. 599-613.
[92] Ibid. P. 599-613.
[93] Ibid. P. 599-613.
[94] Ibid. P. 599-613.
[95] Ibid. P. 599-613.
[96] Ibid. P. 599-613.
[97] Brown W. States of Injury: Power and Freedom in Late Modernity. Princeton: Princeton University Press, 1995. 224 p.; Chakravarti S. Anger, Resentment and Despair: On the Political Philosophy of Truth Commissions. ProQuest: UMI Dissertation Publishing, 2011. 277 p.
[98] Ure M. Resentment/Ressentiment… P. 599-613.
[99] TenHouten W., From Ressentiment to Resentment as a Tertiary Emotion…
[100] Кротов Я.Г. Свойства без человека / Библиотека Якова Кротова. URL: http://krotov.info/1/old/2_chelovek/2_svoystva/resentiment.htm